Странник в пространстве и времени
(Окончание. Начало в №27 от 10 июля)
Сходят все девчонки от него с ума
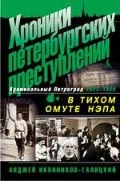 – Когда прочитала вторую книгу – «Черные тени красного города», создалось впечатление, что вся революция – одно сплошное огромное преступление.
– Когда прочитала вторую книгу – «Черные тени красного города», создалось впечатление, что вся революция – одно сплошное огромное преступление.
– В каком-то смысле – да.
Но я бы снял отрицательный момент в этом слове, потому что через это преступление, через разрушение старого уклада смог возникнуть тот уклад жизни, которым мы живем сейчас. Плохой он или хороший, но мы в нем как-то существуем.
И, во всяком случае, в рамках этого уклада была создана великая поэзия: футуристы, обэриуты, Цветаева, Пастернак. И не только поэзия, но литература вообще: Булгаков, Платонов. И не только литература. Полеты в космос, например. Дореволюционный уклад не был лучше. Он был просто другой.
Революция – да, преступление. Потому что она убила старый уклад жизни. Пролились потоки крови, разверзлась бездна несчастий, но затем (это тема третьей книги) постепенно из хаоса складывается новый мир. Период нэпа, когда разбитое, но не изжитое старое причудливо и по-зощенковски курьезно переплеталось с новым.
В сфере криминальной в двадцатые годы происходит смена лидирующих типов преступлений. Сначала это жуткий бандитизм, прямое наследие Гражданской войны.
Потом он вырождается в мелкий бытовой бунт, хулиганство. Затем на смену бессмысленному хулиганству приходят более жизнерадостные преступления: хищение соцсобственности, взяточничество, мошенничество.
И в этой ситуации складывается заново, и уже на новом уровне, правоохранительная система.
Двадцатые годы – это героические годы ее формирования. Появляются настоящие ее герои, отцы-основатели. Как, например, поистине уникальный человек, создатель отечественной школы судебно-медицинской экспертизы Алексей Андреевич Сальков.
Когда в 1934 году был убит Киров, Салькову поручили восстановить лицо вождя, чтобы выставить его в гробу. Сальков до этого разработал систему восстановления повреждений лица трупа с целью его опознания. Его статья об этом (1925 год) читается, как какой-то ужастик. Он описывает, как из трупа сделать живого, то есть, чтобы он выглядел, как живой.
Таким методом он восстановил лицо Леньки Пантелеева, легендарного питерского бандита, убитого при задержании. Особенность того времени: слово бандит в начале двадцатых не было ругательным, или не только ругательным.
Ленька был настолько легендарным, что молоденькая петроградская поэтесса Елизавета Полонская опубликовала поэму, посвященную ему.
Про бандита, который борется с несправедливостью и в итоге погибает.
 «Ленька Пантелеев – сыщиков гроза,
«Ленька Пантелеев – сыщиков гроза,
На руке браслетка, синие глаза.
Кто еще так ловок, посуди сама?
Сходят все девчонки от него с ума».
Ленька Пантелеев был очень популярен в массах. И люди просто не верили, что он убит. Такая же ситуация, как с царевичем Дмитрием: «На самом деле он жив и еще явится». И чтобы пресечь эти слухи, было решено выставить его труп для обозрения в морге Обуховской больницы.
И вот Сальков восстанавливал для этого его лицо. Зима, холод, но выстроилась огромная очередь, люди шли и шли. Любопытно, что ровно через год – в январе 1924 года такая же очередь выстроилась к гробу Ленина.
– Собрать и литературно обработать, увлекательно подать и проанализировать питерские преступления за 65 лет – титанический труд. Сколько лет вы работали над трилогией и где брали фактуру?
– Около пяти лет. Источники – газеты, журналы. Иногда – архивные материалы, но они в значительной части погибли во время революции.
Газеты 1860 – 1920 годов дают достаточно полную картину. После судебной реформы 1864 года гласные суды стали предметом всеобщего интереса, о них публиковались полные отчеты, выпускались сборники со стенограммами особо громких судебных процессов. Все это общество проглатывало с огромным интересом.
Сам государь император Александр Николаевич «прикалывался». Градоначальник Трепов специально для него вставлял в свой ежегодный отчет занятные происшествия из полицейской хроники.
– А в революционные годы газеты были столь подробны, что публиковали даже списки расстрелянных.
– Да. Собственно говоря, именно с этого и начался красный террор. Революция ведь отменила смертную казнь. Но практиковать ее стали – с июня 1918 – как исключительную меру борьбы с контрреволюцией.
В первых списках больше всего офицеров, но, что самое интересное, на втором месте – свои же, чекисты.
Спускаться в ад
 – Вы остановились на 1926 годе. Продолжение следует?
– Вы остановились на 1926 годе. Продолжение следует?
– Все время думаю об этом: продолжать хочется. Но главная проблема – проблема источников. Свобода информации стала угасать по мере становления сталинского режима.
Я работал с архивами ФСБ. Хоть они и рассекречены, но доступ к ним затруднен. Потому что на рассекреченных делах на каждой странице должен стоять штамп «Рассекречено».
А так как архивы эти огромны, то проштамповать каждую страницу архивные работники смогут только через много десятков лет. Поэтому сейчас воспользоваться этими папками очень сложно.
Раскрою свой профессиональный секрет: у меня нашлись знакомые в горпрокуратуре Санкт-Петербурга, куда до сих пор поступают на реабилитацию дела, начиная с 1918 года. Там есть небольшой отдел, который специально занимается этими делами. И я договорился, что пока у них лежат эти папки, буду с ними работать.
Но, поработав с этими делами недельку-другую, я понял, что просто сейчас заболею. Соприкасаешься с таким чудовищным материалом!
Революция по сравнению с ним – ерунда. Ну, резали люди друг друга, это всегда случается. А материалы сталинских дел – абсолютно противоестественны, они – против природы человека. Знакомиться с ними – все равно, что спускаться в ад.
Настолько понятна вся бредовость этих обвинений, настолько выпукло через эти бумаги проступают судьбы людей. Даже в почерке подписей подследственных. На протоколе об аресте – твердая подпись. Потом она меняется. Человек ломается – рука дрожит, он уже не видит даже, что пишет.
Другое, что ударяет по сознанию – анкеты. Они подшиты сразу после постановления и протокола об аресте. Очень подробные анкеты. Указаны родственники: старуха-мать, братья, сестры, дети трех-пяти лет, жена.
Потом протоколы допроса – потрясающие документы, написанные специфическим полуграмотным языком следователей. Видно, как из человека выжимается, вытрясается то, что хочет следствие.
И последняя нота в этом аккорде – в конце дела, к папке, как правило, приклеен конвертик. Если его нет, то человек, может быть, и выжил. А конвертик – это значит: всё!
Там две бумажки: первая – приговор чрезвычайной коллегии НКВД: расстрел. Вторая – напечатанная на машинке бумажонка с коротким текстом: приговор приведен в исполнение такого-то числа в такое-то время.
И подпись: старший лейтенант госбезопасности такой-то. Интересно, что эта фамилия в тридцатые годы в Ленинграде на всех бумажках была одна и та же.
– Фамилия этого страшного лейтенанта?
– Честно скажу: не помню. И не хочу помнить.
Чуть не убил скелетом
 – Человеку, так скрупулезно изучившему преступный мир, самому приходилось что-то нарушать?
– Человеку, так скрупулезно изучившему преступный мир, самому приходилось что-то нарушать?
– Сейчас признаюсь в страшном преступлении: я подправил дату отчисления из института в трудовой книжке. Тогда было правило: если больше трех месяцев не трудоустроен – ты тунеядец. А меня что-то «заколбасило», из института ушел, занимался творческими полетами, в общем – хвать-похвать, а три месяца прошло.
Мне подыскали замечательное место работы – Ботанический сад университета. Чтобы туда оформиться, пришлось исправить одну цифру. Больше я криминальных поступков за собой не припомню.
Но один раз я мог человека убить. В порыве гнева схватил тяжелый предмет и запустил его в голову ближнего.
Вот уж действительно: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Но судьба меня хранила: тяжелый предмет пролетел мимо.
– И чем же это вы бросили в ближнего в порыве гнева?
– Ну, это совсем смешно. Скелетом животного. Это было в Ботаническом саду, и там проживал скелет, кажется, дикой кошки.
Он крепился на увесистом железном стержне, так что, попади он в висок или в глаз, дело могло бы кончиться неизвестно чем. Так получился анекдот, а сантиметр в сторону – и вышла бы трагедия.
И ведь подобное может случиться с каждым. В каждом из нас сидит потенциальный преступник.
Победивший в борьбе с собой
 – Преступник – в каждом? Как мрачно.
– Преступник – в каждом? Как мрачно.
– Основатель петербургского сыска Иван Дмитриевич Путилин говорил, что 97 процентов людей могли бы совершить любое преступление, если бы были уверены в своей полной безнаказанности.
Но я бы не стал истолковывать это в мрачную сторону. Человеческая природа такова: она не может все время держаться в строгих рамках. Только самые скучные, никчемные люди способны жить, не делая ни шага вправо, ни шага влево. Возможно, таких людей вообще нет.
Конечно, существуют разные мотивы: корысть, импульс, аффект… Что такое – «преступление, совершенное под влиянием аффекта»? Это значит: выплеснулось то, что было скрыто.
В Писании сказано: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Подумав плохо о человеке, я уже убил его в сердце своем, внутренне готов его уничтожить.
Да, есть тормоза, есть самоконтроль, но когда он исчезает – в состоянии аффекта – внутреннее может выйти наружу. А кто из нас никогда не гневался, кто из нас никогда не желал зла ближнему? Поэтому я говорю: преступление в человеке сидит.
Преступление – это каинова печать на человеческой природе. И, может быть, смысл жизни состоит в том, чтобы избавится от этого.
– А это реально – избавиться от каиновой печати?
– Это путь святости. Святой – это простой человек, который победил в борьбе с собой. Но святость – это итог, а на пути к итогу происходит много интересного.
На этом пути совершается творчество, то есть, хождение по грани дозволенного, а порой и пересечение этой грани. Поэтому часто общество воспринимает творчество как преступление. «Как это он посмел так сделать, написать, высказаться!»
От отца – только имя
 – Анджей Анджеевич, признаюсь: ваше имя-отчество, а вдобавок к нему еще и необычная двойная фамилия очень интригуют. Можете хоть немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о вашей родословной?
– Анджей Анджеевич, признаюсь: ваше имя-отчество, а вдобавок к нему еще и необычная двойная фамилия очень интригуют. Можете хоть немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о вашей родословной?
– Ну, родословной особой нет.
Одно могу сказать: на всей моей родне двадцатый век отыгрался, что называется, по полной.
По отцовской линии и дед, и бабка пропали без вести в Варшаве во время войны. Отец – ему было шесть лет – с маленьким братом остался один. Беспризорничал в разоренной Варшаве, потом воспитывался в детском доме.
И погиб он очень рано, когда мне было три года. Так что отца я не помню. От него досталось мне польское имя: Анджей, а по-русски и в крещении – Андрей.
Фамилия моя – по материнской линии. Иконниковы-Галицкие были дворяне, но не древние, а из выслужившихся в XVIII веке подъячих.
Прадед, Петр Сергеевич Иконников-Галицкий, был помещиком и, как бы мы сейчас сказали, преуспевающим предпринимателем – коннозаводчиком. Вступил в партию мирного обновления (Прогрессистов) и незадолго до смерти, в 1915 году, стал депутатом Государственной думы.
Потом революция. Естественно, его сын, мой дед, лишился всего. Он-то об этом не жалел, но в тридцатые годы ему припомнили дворянское происхождение: в тридцать восьмом забрали.
Правда, через полтора года выпустили, но домой он в свои сорок девять вернулся тяжело больным стариком. И умер в первую блокадную зиму, в феврале. Один из 110 тысяч официально зарегистрированных умерших в этот блокадный месяц. Похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище.
Кстати, дед неоднократно ездил в экспедиции в Монголию, и его брак с моей бабушкой стал следствием экспедиции. Так что своим существованием я обязан Центральной Азии.
Бабушка происходила из среды рабочих, и если бы не революция, они с дедом, наверное, никогда бы даже не встретились, не говоря уж о том, чтобы пожениться.
Потом – война. И бабушка, и вся их семья прожили в Ленинграде всю блокаду, от первого до последнего дня.
– А ваша мама?
 – Моей матери Вере Николаевне было восемь лет, когда начался весь этот ужас.
– Моей матери Вере Николаевне было восемь лет, когда начался весь этот ужас.
Воспоминания ее детства – сначала арест отца, всеобщий страх репрессий, потом – голод, бомбежки в блокадном Ленинграде.
После войны поступила в университет, там познакомилась моим отцом – его прислали учиться в Ленинград из Польши. Познакомились они, между прочим, в хоре: был такой довольно известный хор ЛГУ под руководством Григория Сандлера.
У мамы было очень хорошее сопрано, отец тоже пел, они с хором ездили на гастроли. Поженились, я родился. А потом эта ранняя, непонятная гибель отца. Он умер в Варшаве, когда моя мать была в Ленинграде. И я никогда не спрашивал ее об этой истории, потому что понимал, что это очень больно.
И несмотря на все, моя мать была удивительно светлым, мудрым человеком. Я не помню, чтобы она когда-нибудь впадала в уныние. И с удивительной терпимостью относилась ко всем моим жизненным закидонам.
Незавидный завидный жених
 – Сегодня вы – единственный носитель звучной дворянской фамилии Иконниковых-Галицких?
– Сегодня вы – единственный носитель звучной дворянской фамилии Иконниковых-Галицких?
– Я, мой сын и моя дочь. Сыну девятнадцать лет, дочери пять. Александр и Анастасия. Кроме нас в мире нет Иконниковых-Галицких. Я специально выяснял.
– А супруга ваша кто?
– В паспорте ничего не написано на эту тему.
– Так вы – завидный жених?
– Ну, не знаю, насколько завидный. Думаю, что со мной долго сосуществовать – сложно.
– У вас такой трудный характер?
– Как сказать… А у кого легкий? Легкий характер, бывает, наверно, только у пустых людей.
В качестве безусловного положительного качества могу назвать только одно – неприхотлив: все ем, могу жить в любых условиях.
– Самое сильное впечатление вашего детства?
– Трудно сказать… Наверно, самые сильные впечатления детства – это впечатления от книг.
Я ведь жил в приличной семье, в приличном городе Ленинграде, в приличной квартире, хоть и коммунальной, с этими старинными паркетами, высокими лепными потолками. Изначально это была квартира моего прадеда, но после революции стала коммунальной.
Какие могли быть впечатления? В школу водили, из школы водили. А вот книги – огромные шкафы, набитые книгами…
Иди в лоб на то, что пугает
– Человек, который оказал на вас наибольшее влияние?
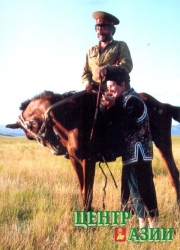 – Я думаю, что, кроме родственников, это известный поэт «оттепельного поколения» Виктор Соснора.
– Я думаю, что, кроме родственников, это известный поэт «оттепельного поколения» Виктор Соснора.
Это человек, выпадающий из всех рамок, абсолютно ни на кого не похожий, абсолютно настоящий и оригинальный. Главное, что я извлек из общения с ним – это то, что нет никаких границ. И в творчестве, и в жизненном движении. Есть свобода, и нет запретов.
– Но ведь свобода – это осознанная необходимость?
– Так Ленин сказал. Но есть ли на самом деле необходимость? Может быть, нам только кажется, что то или это необходимо и неизбежно?
Еще одно правило, которое я для себя усвоил: когда тебе страшно – иди в лоб на то, что тебя пугает. Не обходи, не сворачивай. Потому что все страхи ложны. Только издали страшно. По крайней мере, когда речь идет о страхах житейских. Конечно, не надо идти в лоб на медведя или на цунами.
– Путешествую во времени и в пространстве, где бы вы хотели закончить свой путь?
– Ну, где умереть – это мне безразлично. А вот где жить… Больной вопрос.
Я очень люблю Питер, хорошо его знаю, но мне очень не нравится то, что с ним происходит. Уничтожается культурная среда, уничтожается человеческая среда. Мне становится там неуютно.
Впрочем, нет такого места на земле, где можно найти покой. Это так же невозможно, как остановить мгновение. Не надо искать прибежища.
– Что самое главное, что вам удалось сделать в жизни?
– Самое главное, конечно, не сделано.
Сегодня, например, мы с художником Валерием Елизаровым и фотомастером Стасом Шапиро мечтаем пройти в Туве по маршруту британского путешественника Дугласа Каррутерса.
В 2011 году будет столетие этого путешествия. Он прошел очень интересными местами, по рекам Амылу, Хамсаре, Систиг-Хему, Бий-Хему. Часть этого маршрута совпадает с трассой предполагаемой железной дороги. Хотим снять документальный фильм.
Но пока все упирается в деньги. К сожалению, у нас в стране кинодокументалистика находится в плачевном состоянии. Своей продукции почти не делают, и финансировать не хотят. Тем, от кого это зависит, почему-то ближе Канары и прочие заграницы. А ведь здесь, в Туве, куда интереснее.
А из того, что сделано, мне кажется, наиболее значимое – это стихи. Словесное творчество. В него больше всего вложено духовных сил.
Но чем я интересен людям на самом деле – не мне судить. Человек объективно и правильно оценивается окружающим миром. А по-настоящему – только Богом.
Фото Станислава Шапиро и из личного архива А. Иконникова-Галицкого
Фото:
1. «Хроники петербургских преступлений». Книга третья. «В тихом омуте нэпа».
2. Ленька Пантелеев – сыщиков гроза. После первого ареста.
4. «Хроники петербургских преступлений». Книга вторая «Черные тени красного города». 2008 год, Санкт-Петербург.
5. Прабабушка Надежда Яковлевна Иконникова-Галицкая, урожденная Кетчер. Петербург, конец XIX века.
6. Прадед Петр Сергеевич Иконников-Галицкий. Петербург, начало XX в.
7. Анджею – 5 лет. С матерью Верой Николаевной. 1966 год.
8. Ест все, может жить в любых условиях. В лагере археологической экспедиции на Вавилинском затоне близ Кызыла. Анджей – первый слева. 2003 год.
9. И снова – в дорогу.
Беседовала Надежда АНТУФЬЕВА