НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
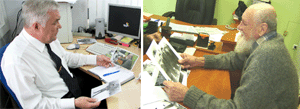 Продолжение. Начало в номере 37
Продолжение. Начало в номере 37
Зека – забайкальские комсомольцы
«Химия» эта на самом деле никакого отношения к химической науке не имела. «Химииками» в просторечии назывались не последователи Менделеева, а осужденные по разным статьям, которые за «примерное поведение» в колониях направлялись отбывать оставшийся срок на стройки народного хозяйства, на самые трудные и отдаленные участки.
«Химики» были ударной силой всех комсомольско-молодежных строек, существовавших по всему необъятному Советскому Союзу, в том числе и самой романтической стройки века – БАМа – Байкало-Амурской магистрали. Тувинский Новый Шагонар, строящийся вместо Старого Шагонара, затопляемого «морем» Саяно-Шушенской ГЭС, так же имел «комсомольско-молодежный» статус.
Сюда по комсомольским путевкам направляли доверчивых энтузиастов-романтиков. И, уже без путевок – осужденных, в просторечии ЗК – заключенных. Ходил такой анекдот:
– Кто такие ЗеКа?
– Забайкальские комсомольцы.
Впрочем, по официальной версии никаких «забайкальских комсомольцев» не существовало: газеты и телеэкраны заполняли только счастливые лица комсомольцев-добровольцев.
Шагонару восьмидесятых крупно повезло: среди массы прибывших по этапу «Химииков» была значительная прослойка интеллигенции – технической, инженерной, руководящей, творческой, в том числе – столичной. Так что на время он стал даже весьма интеллигентным местом. А спецкомендатура МВД, ведавшая спецконтингентом – ключевым участком городской инфраструктуры. В ее казарменных общежитиях можно было встретить очень незаурядных людей.
– Борис Стефанович, а вы долго были «забайкальским комсомольцем»?
– Два года и два месяца. Привезли нас в Шагонар 18 мая 1985 года. Этап – 82 человека, из них настоящих питерцев – тех, которые родились и выросли в Ленинграде – человек тридцать.
Нас было много, таких «комсомольцев» – 1600 человек. Жили при спецкомендатуре. Общежития казарменные. К восьми часам уходили на работу. Я был звеньевым, бригадиром – кроме «химиков» в бригаде и вольные рабочие, демобилизованные солдаты. Строили школу, дома в шестом микроройоне. Кто нормально работал, тот и зарабатывал прилично.
В течение дня «химики» могли передвигаться свободно, но к десяти вечера обязаны были находиться на территории спецкомендатуры. В десять – обязательная проверка: все выходили на плац, строились, поименная перекличка.
Были среди этой массы серьезные люди, которые не боялись ничего – с серьезным криминальным прошлым. Мы же, питерцы, старались держаться вместе. В комнате жили втроем: как приехали вместе, так и поселились.
Леня Табиликеев, он у меня в бригаде мастером работал, директором крупного магазина в Ленинграде был – огромного гастронома. Его осудили за взятку. Он рассказывал: платил постоянно мзду милиционеру – 6000 рублей в месяц. Это по тем временам огромная сумма – стоимость автомашины. Однажды милиционер приходит и говорит: «Мало, давай восемь». «Слушай, ты уж чересчур». Не стал увеличивать мзду. В результате получил восемь лет – только за попытку получить взятку.
– А милиционер что получил?
– Звездочку на погоны. Был капитаном – на суде уже майором оказался. Третий в нашей комнате – Георгий – был заместителем главного инженера. Подставили его. Принесли конвертик. Только он конвертик взял – заходят. Там рублей шестьсот было. В результате – семь лет.
То ли оттого, что мы образованные были, то ли еще почему, но к нам постоянно тянулись люди. Мы много читали, обсуждали происходящее. Смеялись: строили развитый социализм, а построили недоразвитый коммунизм.
Знаете, мне сегодня очень жаль построенного в то время. Цементный завод возле горы, фабрика народных промыслов почти готовая была – два трехэтажных кирпичных здания. Все потом, в девяностые разобрали, вывезли: плиты, металлоконструкции. Ничего не осталось. На цемзаводе брусы металлические квадратные были: 10 на 10, 15 на 15. Все растащили. Идешь по Шагонару – ворота стоят из этих брусьев. Столько поворовано! Бухнули столько денег – и все на ветер пошло.
И что ты здесь застрял?
– А почему сразу после окончания «химии» вы в Ленинград не вернулись, как другие «химики»?
– Первый секретарь райкома партии Владимир Серафимович Неделин, у меня с ним очень хорошие отношения были, тоже все удивлялся: «Что ты здесь застрял? Почему назад не едешь? Имея такие связи…»
А что связи…. Одна из причин, почему я не вернулся: сложно возвращаться туда, где был кем-то и вдруг стал никем. Быть в руководящем составе руководителей двадцати ведущих предприятий Ленинграда, как смеялись тогда, «в Смольный ногой дверь открывать», а потом… Люди перестают тебя узнавать, здороваться. Сразу забывается: кем ты был, что ты сделал.
Я приехал домой в отпуск, когда уже закончилась моя «химия», пошел к другу, с которым вместе работали, а он говорит: ты поздно приехал, все уже поделено, город поделили три организации: криминал, КГБ и партия. Максимум, на что можешь претендовать – должность инженера. Ну, я махнул рукой: и в Шагонаре проживу, заработаю себе на хлеб с маслом. Сейчас понимаю: надо было вернуться домой, не обязательно начальником – мог бы и рабочим пойти на стройку. Но… самолюбие заело, не вернулся.
Организовал в Шагонаре свой кооператив «Этюд»: занимались мозаикой, отделкой помещений. Тогда как раз разрешили кооперативное движение. Прилично зарабатывали у меня люди, и я не бедный был.
А потом с кооперативом проблемы возникли. Взятку надо было дать, прямым текстом заявила мне об этом одна дама из райфинотдела. А я ей тоже прямо: не давал никому, и не буду давать. Она запомнила.
А тут – закон о кооперативах, в нем – строчка: лица, судимые по хозяйственным статьям, не имеют права занимать руководящие должности. А у меня статья как раз – хозяйственная. Она раздула это дело, подключила ОБХСС. Меня трясли здорово. А заказов – море: приличные заказы. От приличных организаций. А как начали трясти, не до работы стало.
Неделин вызывает: не спорь, тут уж ничего не поделаешь, передавай кооператив в другие руки, а сам иди в него просто рабочим. Я так и сделал. Только не пошли дела после этого в кооперативе. Ушел, стал просто шабашничать. Я хороший плиточник, мозаику делаю хорошую. Да и всему в Шагонаре научился. Хотя плитку клал еще дома – и маме, и приятелям, и себе, когда квартиру получил.
– Шабашка, насколько знаю, дело не очень надежное: сегодня заработал, а завтра все спустил на ветер, пропил. У вас, если не секрет, как с этим делом было?
– Не секрет. Мог спокойно литр выпить, на здоровье не жаловался. И вот как-то, к тому времени уже ушел из кооператива, иду осенним вечером с бутылками. Уже стемнело. И вдруг передо мной – женщина в белом. Две косы, высокого роста, чисто русская красота. В руках – большая чаша. И явственно слышу голос:
– Жить-то хочешь?
– Хочу.
– Брось пить!
И пропала. Я пришел с бутылками в свое общежитие. Сел. Налил. И снова слышу голос: «Жить хочешь – брось пить!»
Как отрезало. После этого ни вина, ни водки не употребляю. Только пиво иногда. Осенью будет семь лет.
Почему?
Кем только ни был бывший замдиректора крупнейшего в Ленинграде промышленного предприятия: и бригадиром, и прорабом, и каменщиком, и просто разнорабочим, сторожем. Получал благодарности, грамоты, звания «Лучший бригадир».
Работал всю жизнь, даже выйдя на пенсию, но ни денег не накопил, ни своего угла не нажил. Оказался к итогу жизни в казенном доме, один, без семьи. Почему так получилось? Болезненный, мучительный вопрос. Но Борис Стефанович честно пытается ответить на него. Не только для меня. Для себя.
«Не умею под себя грести, накопительством заниматься. Я, как курица: все от себя. Мама даже ругала: ты какой-то безалаберный. И еще она говорила мне, когда с комсомола на предприятие уходил: Борис, самое главное – не положи в свой карман рабочий рубль, и тогда ты будешь спокойно спать. И я все время помнил ее слова.
Правильно, наверное, корила мама за безалаберность: ведь зарабатывал же, а о том, чтобы квартиру купить и думать не думал. Жил себе в общежитии и жил, пока и его не лишился. Почему? Знаете, теплилась надежда, пока мама была жива, что еще вернусь домой… »
Теперь его дом – дом одиноких пожилых людей. Ему не по себе здесь, он стесняется своего здоровья – на фоне немощных, с трудом придвигающихся людей.
Поначалу пытался по спортивной привычке бегать по утрам, обливаться холодной водой, а потом забросил: стало казаться, что ловит на себе завистливые взгляды – тут люди ходят с трудом, а ты бегать надумал?
Хоть и стало в последнее время зрение сдавать, он все равно чувствует себя самым здоровым здесь. И от этого ему очень неловко: «Больно видеть это. Какое-то бессилие давит. Чем помочь?»
Пытается помочь, чем может: утром – обойти, поздороваться со всеми, кого-то на коляске подвезти, что-то поднести в столовой, санитаркам-нянечкам помочь. «Знаете, у них очень тяжелый труд – моют, убирают, особенно на первом и втором постах, где лежачие, неходячие. Каждого надо поднять, переложить, на коляске в баню отвезти».
Старается не опускаться умственно: запоем читает. Первым делом в библиотеку здесь пошел, перекопал все книги, не очень-то востребованные обитателями интерната. Нашел своего любимого Ремарка – «Три товарища». «Хотел еще перечитать «Черный обелиск», «Жизнь взаймы» и «Розы в кредит», только их не оказалось. Великолепные вещи, особенно, «Жизнь взаймы». А «Три товарища» мы в свое время читали взахлеб».
Спрашиваю о его друзьях-товарищах. Он задумывается, пытается вспомнить имена, а потом вдруг, будто сам для себя делает неожиданное открытие: «Собутыльников было много. А настоящих друзей… Вот, действительно, все из детства, из школы: Валерки – Полевой, Таралов. Коля-Карандашик, Володька Пономаренко. Самое счастливое время…»
Он очень хочет увидеть своих одноклассников, которые, оказывается, помнят его, искали его. Он очень хочет снова увидеть свой Ленинград. Делится мечтой: призрачной, но дающей ему какую-то надежду уже тем, что она зародилась: ведь есть хоть маленький шанс перевестись в интернат такого же статуса, но поближе к родным местам? Пусть не в Санкт-Петербург, хотя бы в область?
Борис Стефанович замолкает, потом начинает торопливо прощаться. Я его понимаю. Ему трудно анализировать вслух, почему же так получилось в его жизни. Он не хочет, чтобы его, даже сейчас, в период жизненной растерянности и одиночества, посчитали слабым.
Он много думает и за многое корит себя: за то, что не проводил в последний путь маму, прожившую долгую жизнь и ушедшую только в девяносто девятом, как будто все ждала своего безалаберного, но любимого сына, которому несла блокадой зимой драгоценную, несъеденную самой горсточку каши.
Он никого не винит. Считает, что виноват во всем сам. И в ссоре с сестрой, которую он до сих пор называет только ласково Ниночка, но не может заставить себя снять трубку и позвонить ей в Санкт-Петербург. И в том, что так давно не видел единственного сына, что сейчас, уже, пожалуй, может и не узнать своего взрослого Максимки. И в том, что даже не представляет, как выглядит его десятилетняя внучка, о существовании которой узнал только после недавнего звонка школьного друга.
Ему кажется, что уже невозможно восстановить эти разорванные связи. Он боится, что любой его шаг к сближению будет воспринят, как шаг проигравшего жизнь, чего-то просящего у тех, перед кем виноват. Он и сейчас сильный человек, но выше его сил этот первый шаг, а вдруг он будет отвергнут? Он только постоянно смотрит свою теперь самую любимую передачу «Жди меня», благодаря которой родные люди находят друг друга.
Особый талант – искать и находить
Действительно, а почему люди ищут друг друга? Зачем Валерий Таралов вдруг начинал искать своего школьного товарища, которого не видел почти пятьдесят лет?
Ведь не оттого, что стало нечем заняться на пенсии: Валерий Александрович, полковник ФСБ в отставке, объехавший за годы службы всю страну и полмира, и сейчас трудится: начальник отдела эксплуатации технических средств охраны в солидной фирме «Газметаллпроект».
При встрече в Москве задаю ему этот вопрос. Валерий Александрович ни на секунду не задумывается: «Как зачем? Это же самое ценное из того, что есть в нашей жизни – наше детство и юность, наша школьная дружба».
А ведь он прав и это действительно понимаешь, только спустя много и много лет после детства. Ты порой не можешь вспомнить имени того, с кем вроде бы даже дружил в зрелые годы, а образы одноклассников, их имена и фамилии четко и ярко высвечиваются в памяти, в любом порядке: по школьному журналу, по партам – кто и с кем рядом сидел.
И при нечастых встречах со школьными подругами я ловлю себя на мысли: нам всегда есть о чем поговорить, мы не становимся чужими по прошествии стольких лет. И разговоры эти – всегда искренни. Нам не приходится напряженно изображать из себя кого-то, мы остаемся друг для друга теми же Надюхами, Галками, Любочками. Теми, какими были. Независимо от того, какими стали.
Вот и Таралов о том же: «Да, было опасение, что можем оказаться чужими. Но этого не возникло. И хвастовства никакого не было. Дети, семьи, где был, чего достиг – какая разница? Никакой.
Начал я поиски одноклассников года два назад. Непросто было: по всей стране ребята разлетелись: один космодромы строил, другой морским офицером служил на Дальнем Востоке, третий подводные лодки конструировал, конструкторское бюро возглавлял. Нашел семерых. Началась цепная реакция: уже ребята и девчата друг друга искали. Звонки, письма, поисковики в Интернете. Уже четырнадцать найденных стало. В Ленинграде, в Москве, в Новосибирске, вот Борис – в Кызыле, где я, кстати, трижды был в командировках – в семьдесят восьмом, восемьдесят первом и последний раз – в восемьдесят третьем году. Бориса особенно сложно было разыскать, но ведь нашелся же!
Никаких следов только одного одноклассника не можем обнаружить – он и тогда был с уголовными замашками, воришка. Но все равно хотелось бы и его найти».
Нашу беседу прерывает звонок. Таралов берет трубку:
«О, Геннадий Дмитриевич, добрый день! У меня в гостях сейчас сидит гостья из далекого Кызыла, есть такая Республика Тыва, слышал, наверное. Она мне привезла письмо от моего школьного друга Бориса, я же тебе рассказывал, что начал разыскивать своих школьных друзей. (Кивает мне). Вам большой привет из Австралии, из города Мельбурна».
Закончив телефонный разговор, поясняет: «Я поехал в прошлом году на могилу отца. И познакомился в поезде с одним человеком: он тоже ехал с той же целью – на могилу отца. Его отец белорус. Он сам был офицером-подводником, а сейчас работает в Австралии: возит туристов в Антарктиду. Потом помогал ему связаться с одной партизанкой, он не мог оттуда дозвониться».
Удивительный человек Таралов: у него какой-то особый дар: находить людей и помогать им, найти друг друга. Но самый главный результат его розысков – могила погибшего в годы Великой Отечественной войны отца. Он нашел ее после почти сорокалетних упорных поисков. Эту особенную историю я попросила его рассказать отдельно – со всеми деталями. А вдруг его опыт пригодится кому-то?
Ведь до сих пор еще, шестьдесят лет спустя после победы, дети ищут могилы своих погибших отцов, а внуки – дедов.
Нашедшие своих отцов
Родился я 1 января 1943 года в тыловом госпитале города Моршанска Тамбовской области.
Отец мой, Мутовкин Вениамин Григорьевич, 1919 года рождения, уроженец города Красноуфимска Свердловской области, где в давние времена поселились уральские казаки. И отец мой считал себя уральским казаком.
Мама, Романова Антонина Николаевна, 1923 года рождения, родилась на Дону, в казацком хуторе с гордым именем Лихой. Тоже, значит, казачка, но донская.
Вскоре после моего рождения в Моршанск приехал мой отец, отпросившись на три дня с фронта по случаю рождения сына. Он где-то сумел раздобыть тройку лошадей и, завернув жену с сыном в огромный тулуп, лихо промчался по улочкам Моршанска. Все-таки казацкая кровь…
А еще через месяц едва не случилась трагедия. Дело было так.
Мама была военнообязанной и служила в госпитале медицинской сестрой. Жила она с подругами в небольшой каморке, здесь же, в госпитале.
Появившегося на свет сына она обустроила в коробке из-под печенья фабрики «Рот фронт». Эта фабрика снабжала сухими пайками практически всех военнослужащих, где бы они ни служили, на фронте, в госпиталях или еще где-нибудь.
Утепленная ватой коробка служила хорошей колыбелью. И так делали многие. Эти же коробки использовались и в качестве хранения чего угодно другого. Например, санитарки в госпиталях применяли их как мусорные корзины.
Однажды, после очередного кормления грудью маленького сыночка, а я родился досрочно, в семь месяцев, мама, как всегда, побежала по палатам перевязывать раненых, делать уколы. В этот злополучный день была заменена на новую санитарка, убиравшая и палаты, и каморку, где жили медсестры.
Новая санитарка, придя в комнатку, увидела в коробке синего мальца, а все семимесячные дети именно такие, синие. Решив, что ребенок уже «готов», она отнесла меня в морг, а добытую к ее радости коробку использовала под грязные бинты.
Через некоторое время мать вернулась в свое жилище, чтобы проверить меня. А меня нет, и коробки нет. Узнав, что в комнатке убиралась новая санитарка, она кинулась искать ее в палатах. «Где ребенок?» «Да он уже готов был, этот малец. Я его в морг отнесла», – таков был спокойный ответ. Отношение к смерти в годы войны было иным, чем в мирное время. Тем более, в военных госпиталях, где каждый день умирало много людей.
В морге температура была около минус 17 градусов. Там я пролежал двадцать минут. Мать после долго не могла простить эту старую женщину-санитарку.
Вот таким образом я вернулся к жизни.
До осени 1943 года отец регулярно присылал маме письма-треуголки. А потом – тишина… В начале 1944 года пришло известие о том, что ее муж пропал без вести.
Наступил День Победы. Маму перевели в советский военный госпиталь на территории Германии. Меня она отправила к своей маме, на хутор. Об отце никаких известий больше не приходило. В 1947 году мама познакомилась с капитаном, белорусом по национальности, служившим там же, в Германии. Это был мой второй отец, Таралов Александр Сергеевич, 1921 года рождения. Родился он в Гомельской области, в Брагинском районе, примерно в сорока километрах от того места, где, как выяснилось много позже, погиб папа.
В 1947 году, во время отпуска, на маминой родине, на Дону, был зарегистрирован второй семейный союз. Новый отец почему-то настоял на том, чтобы изменить мне имя (до этого я был Юрой) на новое – Валерий. Правда, родители сделали это только с моего согласия. А мне тогда было интересно поменять имя, чисто по-мальчишески. Так я стал Тараловым Валерием Александровичем. А был Мутовкиным Юрием Вениаминовичем.
Вместе с новым отцом и мамой я попал в Германию. Там я жил с ними до осени 1950 года. Мать и отец с утра до вечера были на службе. С нами, детьми, а детей в городке было пять человек, занималась немка, готовившая нам еду.
Мы научились немецкому языку и владели им в совершенстве. К 1950 году наша русская речь уже была с немецким акцентом. Когда я осенью 1950 года пошел в первый класс, уже в Союзе, меня за мой немецкий акцент избивала вся школа, дети даже забрасывали меня камнями. Вот что значит духовный настрой, который передавался от взрослых детям! С тех пор я стер этот язык из памяти навсегда.
С 1951 года мама вместе с новым моим отцом и сестрой Тамарой начали поиски моего родного отца .
Все запросы тогда начинались с ГУК МО СССР (Главное управление кадров Министерства обороны СССР). Компьютеров еще не было, и ответы приходили через год, а то и два.
Нам ответили, что в списках личного состава с 1944 года Мутовкин В.Г. не числился и посоветовали искать в архивах военных госпиталей. Список госпиталей был огромен. В каждый надо написать письмо, дождаться ответа. Потекли годы переписки.
В 1969 году умер мой второй отец. Умер совсем молодым, в 48 лет. От него я получил многое. В годы, предшествующие смерти, он был военным историком, сотрудником Института военной истории Министерства обороны СССР, в звании полковника. Им написано много книг (в основном, по закрытой тематике).
Он помогал Маршалу Советского Союза Георгию Жукову в написании мемуаров. Чисто случайно ему удалось познакомить с Жуковым и меня. 5 минут беседы с прославленным Маршалом врезались в память. Это было в 1968 году. Я заканчивал Военно-Механический институт.
Поиски продолжали мама, я и тетя Тамара. На наши запросы приходили однотипные ответы со словом «Нет».
Однажды случай свел меня с интересным человеком. Звали его Вилен Петрович Октябрев.
Он был пойман чекистами в Питере в 1917 году, как беспризорник, совсем еще малолеткой. У него не было ни имени, ни фамилии. Его отмыли и дали ему имя, отчество, фамилию и жизнь, которой можно позавидовать. Имя – Вилен (Владимир Ильич Ленин). Отчество – Петрович (так как город основал Петр I). Фамилия – Октябрев (поймали его в октябре). Он прошел всю войну. И он указал совершенно новый путь поиска.
Суть такая. Если человек воевал в регулярной армии и остался жив, то сведения о нем обязательно есть в ГУКе. Если он был убит на поле боя, то сведения опять же есть в ГУКе, только в списках убитых.
А если человек не убит, а ранен? Здесь два варианта.
Первый: легко раненые не исключались из списков личного состава воинской части, они двигались дальше на Запад, находясь в медсанбате.
Второй: тяжело раненые, но которых можно было вылечить, направлялись в госпитали, из списков они исключались, но были на контроле в ГУКе.
А если человек получил ранение и ясно, что транспортировать в госпиталь бесполезно, он не жилец больше? Таких людей оставляли в местах боев, за ними ухаживали медсестры из специальных полевых лазаретов. Они старались облегчить страдания бойцов, а по смерти их хоронили в братских могилах прикомандированные к лазаретам военнослужащие.
Координаты могил фиксировались, составлялись точные списки, а сведения направлялись не в ГУК, а в архив Ленинградской Военно-медицинской академии. Карточки раненых, в которых медсестры описывали, как изменяется состояние смертельно раненого человека, служили еще и богатым материалом для военных медиков. Вот почему они туда направлялись.
1986 году из архива Ленинградской Военно-медицинской академии пришли коротенькие, но драгоценные сведения о том, где, когда был ранен Мутовкин В.Г. и где захоронен.
Так мы узнали, что к осени 1943 года отец, будучи уже командиром роты в звании старшего лейтенанта, принимал участие в боях за освобождение Белоруссии. 7 ноября на территории Калинковичского района Гомельской области в ожесточенном бою он был ранен в голову. Ранение было тяжелым, и 12 января 1944 года он скончался и был захоронен в братской могиле, которых на территории Белоруссии тысячи.
Дали нам даже координаты Калинковичского райвоенкомата, через который мы узнали конкретное место захоронения – деревня Хомичи. Еще полгода ушло на переписку с военкоматом. В 1987 году, в День Победы, я был там. Мама не смогла поехать: она уже была тяжело больна.
Братская могила располагалась недалеко от сельской школы. Ребятишки ухаживали за ней.
В двадцати метрах от ограды – старая сосна, на вершине которой уже десятки лет гнездятся аисты. Я познакомился с директором школы Анной Николаевной Довгуненко и ее мужем Анатолием. Мы теперь почти родственники. Познакомился и с местными руководителями.
И еще с одной интересной женщиной я познакомился в Хомичах. Звали ее Захаровна. Она сам не белоруска, а пришлая, со Смоленщины. Пришла вместе с советскими войсками и здесь осталась.
Так вот: она вспомнила моего отца! Рассказывала, что он, несмотря на тяжелое ранение головы, всегда старался быть веселым, шутил, подбадривал других, травил анекдоты. Его любили солдаты. В 1993 году Захаровна умерла в одиночестве.
До развала Союза в Хомичи съезжались десятки родственников со всего Союза: из Тбилиси, Астрахани, Тюмени, Запорожья, Владимира, Сухуми, Новосибирска, Москвы и других городов.
После 1993 года приезжали только я и живущий в городе Коврове сын Героя Советского Союза Мироненко. Именем его отца назвали соседнюю белорусскую деревушку – Мироненки, которая по сей день так называется.
Остальным поездки стали уже не по «зубам», то бишь деньгам.
Но дети и даже внуки продолжают искать своих павших. И находят. Не так давно сын лежащего в одной могиле с моим отцом офицера – Ростовцев Борис Иванович – нашел-таки отца. А его сын Руслан – преуспевающий бизнесмен не пожалел 30 000 долларов на переустройство ограды.
Теперь наша братская могила, пожалуй, лучшая в Белоруссии, а Хомичи – моя вторая родина.
Подружился с местными еще живыми ветеранами войны. Всегда их фотографирую, а потом присылаю снимки. Снял даже небольшой видеорепортаж. Но ветераны тоже уходят в вечность. В прошлом году оставалось только пять человек.
Помог школьникам создать картотеку захороненных в братской могиле воинов, и они до сих пор ведут поиски родственников…
Очень важное
Вот такая история, состоящая из отдельных историй, тесно сплетенных вместе. Сплетенных, как и все в нашей жизни. Она получилась довольно длинной. Как и срок работы над этим материалом – с января по сентябрь.
Но я благодарна Валерию Таралову за его январское письмо, заставившее включиться в поиски. Благодарна Борису Калиновскому – за доверие, за его нелегко давшийся рассказ о своей непростой судьбе.
Они оба заставили задуматься и понять что-то очень важное. Долгое время точная формулировка этого важного расплывалась, ускользала от меня. И только сейчас, когда подхожу к финалу своего повествования, это ускользавшее важное неожиданно легко укладывается в три коротких предложения.
Это очень важно – никогда не терять друг друга. А если потерял, то найти, обязательно найти человека. В том числе – и в самом себе.
Надежда АНТУФЬЕВА